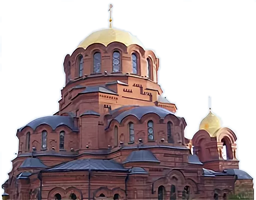[10.06.2009] От "этики предстояния" к "культуре смерти"
Консервативный французский политик Филипп де Вилье в интервью газете Famille Chretienne передает слова президента этой страны Николя Саркози, о том, что «исламизация Европы неизбежна». Об исламизации в Европе говорят многие, кто-то призывает ей сопротивляться, кто-то — принять ее как неизбежность, кто-то призывает европейских женщин одеваться скромнее, чтобы «не провоцировать» горячих уроженцев Ближнего Востока, кто-то разражается яростными (и часто несправедливыми) нападками на Ислам.
Но исламизация - это симптом, а не причина. Рыкая на мусульман, как Вильдерс или Фалаччи, горю не поможешь. Вместо мусульман пустеющую Европу могли бы заполнять представители какой-нибудь другой цивилизации, и дело не столько в том, что Ислам наступает, сколько в том, что Европа скукоживается. Почему?
Корень проблемы в определенных культурных сдвигах в самой Европе. Интересную иллюстрацию можно найти, например, в британской газете The Telegraph, которая недавно опубликовала статью «В помощи при самоубийстве нет ничего достойного», и посвящена она проблеме так называемой эвтаназии — которую в последнее время более объективно называют «помощью при самоубийстве». Автор, британский консервативный журналист Джордж Питчер, выступает против этого явления, рассказывая о своем личном опыте. В 1993 году он по малодушию склонял медсестру усыпить его смертельно больную мать, та отказалась, мать пришла в сознание и успела перед смертью еще раз поговорить с детьми - что ему показалось драгоценным, и он ужасается мысли, что чуть было этого не лишился. В комментариях к статье некий человек прекрасно формулирует суть проблемы, вставшей перед западным — и, увы, не только западным — обществом. Как пишет этот комментатор, «Давайте проясним это: моя жизнь — МОЯ, и я могу делать с ней, что хочу; она не принадлежит обществу, или правительству, или какому-нибудь воображаемому всемогущему другу на небесах — так что не лезьте в мои дела». Звучит знакомо, неправда ли? У нас в России можно столкнуться с точно таким же настроением. Конечно, настроение это нелепо, и скорее должно быть свойственно бунтующему подростку, который не замечает, что суп к обеду готовит мать, а интернет оплачивает отец; однако оно сделалось чуть ли не преобладающим.
Это убеждение — моя жизнь принадлежит только мне — поразительный абсурд. Если мы живем в обществе, мы связаны с другими людьми сетью взаимных обязательств, мы принадлежим нашим семьям, нашим странам, людям, которые от нас зависят (например, врач — больным, учитель — детям, ученый — всем тем людям, которым может принести пользу его работа и т. д.). Мы едим хлеб выпеченный другими людьми, пользуемся порядком, который обеспечивает государство, обращаемся за помощью к медицине в случае болезни — множество кровеносных сосудов связывает нас с нашими ближними, с другими клетками общественного организма, без которых мы не могли бы существовать.
Каким образом такой абсурд сейчас воспринимается многими как какая-то самоочевидная истина? Ответ в определенном смещении в понятии «свободы». В культуре, сформированной Христианством, свобода исходила из веры в то, что человек принадлежит Богу — и все его обязательства по отношению к семье или обществу, государству или властям, исходили из его первичных обязательств по отношению к своему Создателю и Искупителю. Люди верили в божественное право монархов, но в то же время святой Филипп Московский или Томас Мор могли решительно выступать против своих государей во имя власти более высокой — власти Бога. Как сказал Томас Мор, когда его повели на эшафот, «я умираю верным слугой короля, но прежде всего — Бога». Свобода человека по отношению к мирским властям коренилась в том, что у него были более важные обязательства. В некоторых случаях человек мог отклонить притязания общества или государства указанием на более высокую власть: «судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? (Деян.4:19)»
Когда христианин повиновался государю, он повиновался по страху Божию; когда он обличал государя в лицо — он делал это также по страху Божию. Так понимаемая личная свобода ни в коем случае не означала отрицания нравственного долга — напротив, она исходила из ясного осознания своих обязательств.
Вымывание веры из общественного сознания, утрата чувства предстояния перед Богом породила великие тоталитарные режимы ХХ века — когда этика долга утратила свой религиозный корень, и превратилась в этику долга перед Партией, Вождем, Фюрером, Расой, Пролетариатом или еще какими-нибудь секулярными идолами. Ужасающие злодеяния, совершенные этими режимами, показали, насколько чудовищными последствиями оборачивается провозглашение абсолютного долга по отношению к кому-то, кто не есть Бог. Но в наше время мы столкнулись с другой реакцией — отрицанием этики долга как таковой. «Моя жизнь принадлежит мне, все что стесняет мои личные желания есть невыносимое попрание моих прав, угнетение и дискриминация», причем невыносимым угнетением оказываются не только какие-то принудительные меры государства, но и простое неодобрение, высказываемое Церковью.
Одним из проявлений отрицания этики долга является культура смерти — продвижение абортов, эвтаназии, и уже вслух высказываемые некоторыми вполне уважаемыми представителями академической элиты (например, Питером Сингером или Джоном Харрисом) предложения легализовать убийство уже рожденных младенцев.
Дело в том, что поддержание жизни других людей, особенно беспомощных, таких как младенцы (в утробе матери или вне ее) или старики, напоминает о наших обязательствах по отношению к другим и ясно указывает, что мы не принадлежим себе, но имеем обязательства по отношению к другим. Для мировосприятия, связанного с тезисом «это моя жизнь, и я могу делать с ней что хочу» «нежелательные» младенцы (а в перспективе и старики) выглядят как угроза свободе — и легальный, общественно приемлемый способ избавления от них воспринимается как несомненная ценность, которую надлежит твердо отстаивать перед лицом консервативных сил.
На демографии это сказывается совершенно очевидным образом, и общества, процветающие и благополучные как никогда в истории, в то же время сталкиваются с сокращением населения, которое вынуждены компенсировать за счет иммиграции. Иммигранты не принадлежат к «культуре смерти» - у них все в порядке и с естественным приростом, и с чувством долга по отношению к «своим», и если они не перенимают культуру смерти от принимающей стороны, они неизбежно вытесняют коренных жителей.
Корни проблемы, стоящей перед Европой — не в Исламе как таковом, а в разрушении той этики долга и предстояния перед Богом, которая создала европейскую цивилизацию. Для нас эта проблема не менее актуальная — на низкую, как и везде в Европе, рождаемость накладывается высокая смертность, прежде всего, от алкоголизма. Да, у нас пока нет, как в странах Западной Европы, городских кварталов, куда коренным жителям вход фактически воспрещен — так называемых no-go areas – но это обусловлено не какими-то нашими преимуществами, а тем, что Россия — пока гораздо менее привлекательная для иммиграции страна, с гораздо более слабой системой социальной помощи. Поскольку мы страна отсталая, в буквальном смысле - движемся в том же направлении, но медленнее - у нас есть возможность посмотреть на передовые страны и подумать, а хотим ли мы туда.