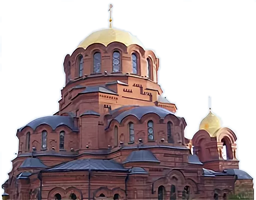[13.03.2013] О ереси Оригена
 В древней христианской письменности (и, вообще, в истории древней Церкви) Ориген, безусловно, занимает особое место. Прежде всего, о биографии его, в отличие от других представителей христианской древности, сохранились достаточно подробные сведения, преимущественно — в шестой книге «Церковной истории» Евсевия Кесарийского[1]. Однако, корректность изложения фактов данной биографии и освещение их Евсевием, горячим сторонником и апологетом Александрийского «дидаскала», вызывает ряд серьезных сомнений, которые позволяют предполагать, что Ориген был далеко не столь святым мужем, как это пытается изобразить Евсевий[2]. Что не вызывает никаких сомнений, так это поразительное трудолюбие его — в историю христианской письменности он вошел как один из самых плодовитых писателей (хотя основную часть своих произведений Ориген надиктовывал). На сей счет достаточно привести риторический вопрос блаж. Иеронима Стридонского: «Видите, труды одного не превосходят ли трудов и греческих и латинских писателей в совокупности? Кто бы мог когда-нибудь столько прочесть, сколько он написал?»[3] Хотя сохранилась только малая толика этих книг, она поражает своим размахом и многообразием диапазонов литературного творчества. Один только массивный труд по библейской текстологии, под названием «Гекзаплы» насчитывал 6 500 страниц и никто никогда в древности не дерзнул взять на себя труд переписать его целиком[4]. Столь же впечатляющее ощущение оставляют и произведения Оригена, особенно его экзегетические сочинения, которые делятся на три категории: гомилии (только сохранившихся их насчитывается 279), комментарии и схолии[5]. Эти сочинения Оригена позволили Александрийскому учителю занять заметное место в истории христианской экзегезы, оказав значительное влияние на все последующее христианское толкование Священного Писания, как на греческом Востоке, так и на латинском Западе[6]. Впрочем, однозначно оценивать экзегезу Оригена вряд ли возможно: его превыспренные и порой очень произвольные толкования часто уклонялись от основного потока церковного подхода к Писанию, иногда превращаясь в непроточные болота с гниющей и смрадной водой.
В древней христианской письменности (и, вообще, в истории древней Церкви) Ориген, безусловно, занимает особое место. Прежде всего, о биографии его, в отличие от других представителей христианской древности, сохранились достаточно подробные сведения, преимущественно — в шестой книге «Церковной истории» Евсевия Кесарийского[1]. Однако, корректность изложения фактов данной биографии и освещение их Евсевием, горячим сторонником и апологетом Александрийского «дидаскала», вызывает ряд серьезных сомнений, которые позволяют предполагать, что Ориген был далеко не столь святым мужем, как это пытается изобразить Евсевий[2]. Что не вызывает никаких сомнений, так это поразительное трудолюбие его — в историю христианской письменности он вошел как один из самых плодовитых писателей (хотя основную часть своих произведений Ориген надиктовывал). На сей счет достаточно привести риторический вопрос блаж. Иеронима Стридонского: «Видите, труды одного не превосходят ли трудов и греческих и латинских писателей в совокупности? Кто бы мог когда-нибудь столько прочесть, сколько он написал?»[3] Хотя сохранилась только малая толика этих книг, она поражает своим размахом и многообразием диапазонов литературного творчества. Один только массивный труд по библейской текстологии, под названием «Гекзаплы» насчитывал 6 500 страниц и никто никогда в древности не дерзнул взять на себя труд переписать его целиком[4]. Столь же впечатляющее ощущение оставляют и произведения Оригена, особенно его экзегетические сочинения, которые делятся на три категории: гомилии (только сохранившихся их насчитывается 279), комментарии и схолии[5]. Эти сочинения Оригена позволили Александрийскому учителю занять заметное место в истории христианской экзегезы, оказав значительное влияние на все последующее христианское толкование Священного Писания, как на греческом Востоке, так и на латинском Западе[6]. Впрочем, однозначно оценивать экзегезу Оригена вряд ли возможно: его превыспренные и порой очень произвольные толкования часто уклонялись от основного потока церковного подхода к Писанию, иногда превращаясь в непроточные болота с гниющей и смрадной водой.
Оригена иногда называют «знаменитым учителем Церкви» по его «уму и учености»[7]. Отрицать его ум и ученость, конечно, никак нельзя, но присваивать ему почетный титул учителя Церкви не представляется возможным: Ориген был учителем («дидаскалом») по своей, так сказать, профессии, но не учителем Церкви[8]. Столь же ошибочно величать его систематическим богословом или выдающимся богословом[9], ибо понятие «богослов», как уже говорилось нами[10], обязывает к весьма и весьма многому. Более корректным наименованием представляется именовать Оригена религиозным мыслителем, однако определять его в качестве «гения метафизики»[11] является несомненным преувеличением. В целом можно сказать, что у Оригена наблюдается два порядка идей и интуиций: одни более или менее органично вписываются в общий контекст церковной ортодоксии, а другие в лучшем случае расходятся с ней, а в худшем — встают в непримиримое противоречие к этой ортодоксии. Так, вполне в духе церковного Предания Ориген полемизирует с язычеством, и его сочинение «Против Кельса (Цельса)» есть «компендиум христианской апологетики 2 и 3 века, — такой компендиум, в котором отобразилась во всей полноте вся апологетическая деятельность древней христианской Церкви в ее борьбе с внешними врагами, притом не только по содержанию, но и по методу»[12]. Достаточно большое значение имеет Ориген и в истории древнецерковной проповеди, поскольку под его влиянием «проповедь в своем непосредственном виде получает права гражданства» в этой истории[13]. Высказывалось мнение, что и в учении о Святой Троице Ориген не выходит за рамки ортодоксии доникейской эпохи, а поэтому раскрытие «этого учения в его творениях дает полное основание и право признать его в этой части догматической его системы выразителем общецерковной веры и верным ее истолкователем, хотя по местам очень оригинальным и смелым, — соответственно складу его необыкновенного, оригинального ума»[14]. Однако, здесь дело обстоит не совсем просто, поскольку тринитарные воззрения Александрийского «дидаскала» подвергались (и подвергаются) различным толкованиям[15]. Конечно, нельзя не учитывать того, что на период его жизни приходится широкое распространение различных форм монархианской ереси[16]. Полемизируя против данной ереси, обычно сливающей воедино Лица Святой Троицы, Оригену приходилось часто акцентировать различие этих Лиц, а поэтому, хотя для него единство Их было очень важным, но самостоятельное бытие каждого Лица (особенно — Сына) являлось, по выражению одного исследователя, «богословски первичным» (theologically prior)[17]. Это приводило Оригена к ясно прослеживающимся в его богословии субординационистским тенденциям, хотя это и был «субординационизм тонкий, весьма возвышенный»[18]. Позднее православные полемисты (блаж. Иероним Стридонский, свт. Епифаний Кипрский и др.) упрекали Оригена в том, что он является «отцом арианства», но вряд ли данный упрек полностью корректен, ибо в его «теологии» (то есть учении о Святой Троице) наличествуют как элементы, сближающие его с арианами (но не крайнего толка), так и идеи, которые впоследствии развили защитники Никейского единосущия, например, свт. Афанасий Великий[19]. Другими словами, в своем тринитарном учении Александрийский «дидаскал» как бы балансировал на тонкой грани между Православием и ересью.
Куда больше нареканий вызывает его христология, которая теснейшим образом связана с теорией предсуществования душ. Согласно этой теории, изначально, еще до творения мира, Богом были созданы «умы» или «духи», обладающие свободой воли и составляющие некую цельность и единство. Однако уклонение воли этих «умов» от Бога привело ряд из них к падению, и степень этого падения определяет огрубление их телесной оболочки, первоначально являвшейся тончайшей и практически духовной (или эфирной)[20]. В результате и появляются человеческие души, как бы «охладевшие» в своей любви к Богу и пресытившиеся созерцанием Его, а также различные «чины» бесов. Только один «ум» или «душа» Христа, в отличие от прочих человеческих душ, не пала, пребывая в нерасторжимом единстве с Богом[21]. Таким образом, по Оригену «Христос — человек», или точнее «Христос — душа», является предсуществующим, будучи своего рода Женихом предсуществующей Церкви, как Невесты, состоящей из пока не падших «умов». Их падение и заставило Его воплотиться или «истощиться», но субъектом собственно «кеносиса» была душа Христа и лишь опосредованно — Бог Слово[22]. Поэтому христология Оригена предполагает, что «душа Христа Спасителя на время, таким образом, охлаждается, делается способной к соединению с телом, но затем она опять возвращается к чистой духовности, к своему слиянию со Словом, и по окончании дела искупления все человеческое неминуемо исчезает в Лице Сына Божия: остается Слово, соединенное с чистейшим и совершеннейшим духом. Человеческая природа во всей ее целости не имеет вечного продолжения, не седит одесную Бога, не воспринята в Ипостась Божества. В сущности, это чистейший докетизм, в самой его внутренней основе, и есть необходимое следствие воззрения Оригена на человеческую природу, воззрения платоновского, чуждого христианству»[23]. Эта явная докетическая тенденция в христологии Оригена усугубляется его представлением о том, что «плоть Христа обладала свойством казаться каждому из окружающих Его людей в различном виде, соответственно степени его телесного и духовного зрения»[24]. И как бы не оправдывать данное представление Александрийского «дидаскала» (что этим он якобы не колебал «онтологического тезиса об его человеческой истинности» и т.д.)[25]указанное впечатление не пропадает. Можно, наверное, прийти к заключению, что в христологических воззрениях Оригена сосуществуют два порядка идей — собственно христианских и платоновско-гностических, которые внутренне несовместимы друг с другом. Поэтому и само «христианство у Оригена — этого нельзя отрицать — имеет языческо-гностический оттенок и колорит»[26].
Этот колорит, прежде всего, связан с теорией предсуществования душ. Примечательно, что, останавливаясь на проблеме происхождения душ, еще нерешенной в то время церковным сознание, Ориген имел дело с тремя основными гипотезами такого происхождения, то есть «традуционизмом» (душа происходит от другой души в момент зачатия), «креационизма» (создание каждой души Богом) и указанной теорией «преэкзистенции»[27]. И из этих гипотез он выбрал именно ту, которая не просто плохо совместима с христианским миросозерцанием, но в корне противоречит ему. Данная гипотеза, что очень важно сказать, предполагала идею падения умных сущностей, явно восходящую к платоновскому мифу («Федр»)[28]. Причина тяготения Оригена к этой идее вполне прозрачна, поскольку он сам ее объясняет: идея домирного падения позволяет объяснить разнообразие и неравенство духовных существ в этом мире. По его собственным словам, в Боге «не было никакого разнообразия, никакой изменчивости, никакого бессилия, поэтому всех, кого Он сотворил, Он сотворил равными и подобными (aequales se similes), потому что для Него не существовало никакой причины и разнообразия, и различия. Но так как разумные твари … одарены способностью свободы, то свобода воли каждого или привела к совершенству через подражание Богу, или привела к падению через небрежение. И в этом … состоит причина различия между разумными тварями: это различие получило свое начало не от воли или решения Создателя, но от определения собственной свободы (тварей)»[29]. Но если причина склонности Оригена к названной идее вполне понятна, то непонятно, почему он закрыл глаза на логические следствия ее. Таковым следствием в первую очередь является тезис о том, что материальность является наказанием для духа, а поэтому, в той или иной степени, злом, что было глубоко сродни известному орфико-пифагорейскому положению: «тело — могила» (σῶμα – σῆμα), полностью несовместимому с христианским мировоззрением. Правда, наличие данного тезиса отвергается некоторыми исследователями[30]. И действительно, Ориген в конкретном случае (как и в ряде других) бывает неоднозначен и часто противоречив. Например, в одном месте «Против Кельса» он, возражая этому врагу христианства, замечает: «Нечистое в собственном смысле есть то, что происходит от греха (ἀπὸ κακίας). Природа же тела не есть нечистота (οὐ μιαρά); телесность сама по себе, по своей природе не связана с грехом — этим источником и корнем нечистоты»[31]. Однако, в том же сочинении заходит речь о «духах, которые совершили преступление перед лицом истинного Бога и Ангелов небесных», а поэтому «были низвергнуты с неба и теперь влачат свое существование в более грубой оболочке телесной и в нечистотах земных»[32]. Но если предположить, что «природа тела», о которой говорилось в предыдущем высказывании Оригена есть телесная природа непадших духов или умов, обладающих как бы предельно субтильной и «духовной» материальностью, то и тогда наше земное тело есть результат домирного грехопадения, что абсолютно противоречит Священному Писанию и церковному Преданию. И как бы не оправдывать Оригена, нельзя избежать вывода, что для него тело — «это не более как темница духа»[33]. А из этого вывода органично вытекает следующий: «Чтобы добиться правильной теодицеи, Оригену следовало обратиться только к общецерковному учению о падении сначала диавола, а потом и первых людей. Он и обратился к этому учению; но так как к его времени оно не успело еще получить полного своего определения и развития, то, взявши его в самом общем смысле, он развил, расширил и преобразовал его под влиянием философских теорий так, что в конце концов оно оказалось совершенно непохожим на церковное учение»[34]. Мы бы добавили, что не просто непохожим, но совершенно расходящимся с церковным.
Не касаясь других сомнительных и спорных моментов богословских взглядов Оригена (например, учения о вечном творении мира[35], или о том, что небесные светила являются разумными существами и т.д.), слегка затронем наиболее пререкаемый пункт этих взглядов — эсхатологию. В этой области обычно акцентируется два основных спорных момента у Оригена: учение о «восстановлении всего» (или «апокатастасисе») и учение о воскресении тел, толкуемое Александрийским «дидаскалом» весьма своеобразно. Но сначала хотелось бы обратить внимание на один, на наш взгляд принципиальный, постулат его эсхатологических воззрений, который он формулирует так: «Конец всегда подобен началу»[36]. Данный постулат явно тяготеет к античному циклизму, который определял и видение истории в греко-римском язычестве[37]. Такой циклизм абсолютно несовместим с христианским «линейным» постижением времени в его соотнесенности с вечностью[38]. В христианском миросозерцании конец никогда не смыкается с началом[39], а если и происходит некое отдаленное повторение начала, то оно случается лишь на новом витке известной гегелевской спирали. Правда следует отметить, что эта спираль частично присутствует и у Оригена, допускающего существование множества других миров после кончины нынешнего мира, что скажется и на судьбах разумных существ[40]. Однако это множество не простирается в бесконечность и самим им наступит предел — «апокатастасис всех».
Сам по себе термин «апокатастасис» не таил в себе ничего еретического, употребляясь и в Новом Завете, и у раннехристианских писателей до Оригена[41]. Иногда указывают, что еретическое значение данного термина появляется у Климента Александрийского, который в данном случае является прямым предшественником Оригена. Но такое предположение, как нам представляется, зиждется на недоразумениях, натяжках или неправильных толкованиях. Так, например, говорится, что Климент считал адские муки средством очищения от грехов и верил в возможность очищения по истечении времени всеобщего апокатастасиса (ἀποκατάστασις τῶν πάντων). В одном месте Климент прямо говорит, что даже диавол, как обладающий свободной волей и потому способный к покаянию и исправлению, может вернуться в первоначальное состояние»[42]. И далее следует ссылка на «Строматы» (I, XVII, 83). Однако, в указанном месте речь идет не о будущем, а о прошлом. Здесь Климент передает мнение тех христиан, которые считали, что философия пришла в этот мир в результате похищения божественной Истины диаволом и есть «дар вора». Далее Климент рассуждает: «Диавол в полной мере ответственен за свои действия, поскольку он вполне самовластен и мог раскаяться и отказаться от своего воровского замысла. Следовательно, вина лежит на нем, а не на Господе, Который не воспрепятствовал. Наконец, у Бога не было нужды вмешиваться в дела диавола, потому что привносимое им в мир было для людей безвредно»[43]. Таким образом, здесь отсутствует всякий намек на специфическую теорию «апокатастасиса». Указывается еще одно место «Стромат» (VII,II,12), где Климент, хотя и «с величайшей осторожностью», якобы предполагает всеобщее спасение всех разумных (intelligent) тварей[44]. Однако, взятое в контексте данное место вряд ли служит доказательством того, что у Климента имеются следы еретической идеи «апокатастасиса». Александрийский учитель ведет здесь речь о промыслительном значении греческой философии, дарованной Господом эллинам до Своего Пришествия, чтобы удержать их от неверия. И «если эллин, хоть и не просвещенный языческой философией, примет истинное учение, то каким бы ни считали его неотесанным, он превзойдет всех своих образованных соплеменников, ибо вера его сама выбрала краткий путь к спасению и совершенству». Далее говорится: «Лишь бы не была стеснена свобода воли, а все остальное Господь Сам обратит в орудие добродетели, дабы люди слабые и недальновидные так или иначе могли из рода в род видеть в лице единого и всемогущего Существа милосердную любовь Божию, спасающую нас через Сына. И никоим образом это Существо не может быть началом зла, ибо все, что Господь сотворил, и в целом, и в частностях, служит спасению. Итак, задача спасительной справедливости состоит в том, чтобы всё без исключения возводить к наилучшему возможному для него состоянию. К возможному лучшему благу, сообразно их устроению, возводятся и более слабые. Ведь разумно, чтобы все добродетельное переходило в лучшие обители (οἰκήσεις) и причина этого перехода — свободный (самовластный) выбор ведения, который стяжала душа (τὴν αἵρεσιν τῆς γνώσεως ἣν αὐτοκρατορικὴν ἐκέκτητο ἡ ψυχή[45]). Неизбежные же вразумления (вразумляющие наказания — παιδεύσεις δὲ ἀναγκαῖαι) через служащих ангелов, через многоразличные предпочтения (выборы — προκρίσεων) и через окончательный суд, который вершит Великий Судья, заставляют покаяться и дошедших до “бесчувствия” (Еф.4:19)». — Найти в этом рассуждении Климента даже легкий намек на учение о спасении диавола и бесов можно только при наличии очень богатой фантазии. Как нам представляется, и в других местах текстов сочинений Климента, которые приводятся в качестве доказательства тезиса, что он был предшественником Оригена, дело обстоит аналогичным образом. Поэтому еретическая трактовка «апокатастасиса» не присутствовала в церковном Предании до Оригена. Он был автором и вдохновителем данной совсем неортодоксальной теории. В каком-то отношении, хотя и достаточно отдаленном, его предшественником был гностик Василид, у которого эта теория присутствует[46]. У самого же Оригена названная теория приобрела ярко еретический смысл, поскольку она сочеталась с другими его идеями, несовместимыми с Православием, особенно — с идеей предсуществования душ[47].
Впрочем, следует признать, что высказывая эту теорию, он формулирует ее порой нерешительно, с колебаниями и недомолвками. И тем не менее, существенные черты еретического понимания «апокатастасиса» проступают вполне рельефно, прежде всего и главным образом в сочинении «О началах». Так, в одном месте его Ориген исходит из постулата, что в конце времен Бог будет во всем, и далее рассуждает: «Тогда уже не будет различия добра и зла, потому что зла не будет вовсе: Бог будет составлять все, а при Нем уже не может существовать зло; и кто всегда пребывает в добре, для кого Бог составляет все, тот уже не пожелает есть от древа познания добра и зла. Тогда, после очищения всякого греховного чувства и после совершенного и полного очищения этой природы, один только Бог, единый благой, будет составлять для нее все, и Он будет составлять все не в некоторых только или немногих или не в очень многих, но — во всех существах. Когда уже нигде не будет смерти, нигде не будет жала смерти, тогда, поистине, Бог будет во всем»[48]. Чуть ниже присовокупляется: «Тогда истребится последний враг, называемый смертью, и не будет никакой печали там, где не будет смерти, и не будет ничего враждебного там, где нет врага. Истребление же последнего врага нужно понимать, конечно, не в том смысле, что погибнет субстанция его, созданная Богом, но в том смысле, что уже не будет он врагом и смертью: ибо нет ничего невозможного для Всемогущего и нет ничего неисцелимого для Творца. Он сотворил все для бытия, но созданное для бытия не может не быть»[49]. Формально Ориген в этих рассуждениях исходит из слов св. Апостола Павла в 1 Кор.15:23-28 и нынешние апологеты Александрийского «дидаскала» (а таковыми являются большинство западных исследователей) указывают, что речь здесь идет не о диаволе и бесах, а о «смерти», и если Ориген что и добавил к словам св. Апостола, то это может быть только «великой надеждой» (a great hope)[50]. Оставив пока в стороне «великую надежду», отметим, что контекст двух приведенных выше рассуждений явно указывает на вполне артикулированную мысль: все разумные существа (а диавол и бесы таковыми, несомненно, являются) в конце времен, по Оригену, будут с Богом, поскольку и их Он сотворил в начале для бытия.
 Естественно, Ориген не отрицал (и не мог этого открыто делать) адских мучений диавола и бесов, а также грешников, но он склонялся к тому, что эти мучения будут иметь чисто педагогическую роль и что они будут иметь предел. По данному поводу он, в частности, пишет: «Конец или свершение мира наступит тогда, когда каждый за грехи свои подвергнется наказаниям, причем это время, когда каждый получит должное по заслугам, знает один только Бог. Мы же думаем только, что благость Божия, чрез Иисуса Христа всю тварь призывает к одному концу после покорения и подчинения всех врагов»[51]. Конечно, Ориген не мог решительно и четко излагать свое учение об «апокатастасисе всех», включая диавола и бесов, ибо он ясно осознавал, что такая еретическая концепция поставит его в неразрешимый антагонизм с подавляющим большинством верующих[52]. И не случайно, что в своем «Послании к друзьям в Александрию», два фрагмента которого сохранились у блаж. Иеронима Стридонского и Руфина Аквилейского, он категорически отстраняется от подобной еретической концепции, которая, по его словам, якобы ложно приписывалась ему недругами[53]. Однако, по нашему глубокому убеждению, известная поговорка, что «не бывает дыма без огня», в данном случае совершенно оправдывает себя. Достаточно привести одно место из того же трактата «О началах», где говорится: «Но, спрашивается, некоторые из этих чинов, действующих под начальством диавола и повинующихся его злобе, могут ли когда-нибудь в будущие века обратиться к добру, ввиду того, что им всем присуща способность свободного произволения, или же постоянная и застарелая злоба, вследствие привычки, должна обратиться у них как бы в некоторую природу? Ты, читатель, должен исследовать, действительно ли и эта часть (существ) совершенно не будет во внутреннем разногласии с тем конечным единством и гармонией ни в этих видимых и временных веках, ни в тех, невидимых и вечных? Во всяком случае, как в продолжение этих видимых и временных, так и в продолжение тех невидимых и вечных веков все наличные существа распределяются сообразно с чином, мерою, родом и достоинствами их заслуг, причем некоторые из них достигнут невидимого и вечного (бытия) на первых же порах, другие — только потом, а некоторые — даже в последние времена, и то только путем величайших и тягчайших наказаний и продолжительных, так сказать, многовековых, самых суровых исправлений, после научения сначала ангельскими силами, потом силами высших степеней, словом, путем постепенного восхождения к небу — путем прохождения, в некоторой форме наставлений, всех отдельных служений, присущих небесным силам. Отсюда, я думаю, вполне последовательно можно сделать такой вывод, что каждое разумное существо, переходя из одного чина в другой, постепенно может перейти (из своего чина) во все остальные и из всех — в каждый отдельный чин, потому что всех этих разнообразных состояний преуспеяния и упадка каждое существо достигло собственными движениями и усилиями, которые обусловливаются способностью каждого (существа) к свободному произволению»[54].
Естественно, Ориген не отрицал (и не мог этого открыто делать) адских мучений диавола и бесов, а также грешников, но он склонялся к тому, что эти мучения будут иметь чисто педагогическую роль и что они будут иметь предел. По данному поводу он, в частности, пишет: «Конец или свершение мира наступит тогда, когда каждый за грехи свои подвергнется наказаниям, причем это время, когда каждый получит должное по заслугам, знает один только Бог. Мы же думаем только, что благость Божия, чрез Иисуса Христа всю тварь призывает к одному концу после покорения и подчинения всех врагов»[51]. Конечно, Ориген не мог решительно и четко излагать свое учение об «апокатастасисе всех», включая диавола и бесов, ибо он ясно осознавал, что такая еретическая концепция поставит его в неразрешимый антагонизм с подавляющим большинством верующих[52]. И не случайно, что в своем «Послании к друзьям в Александрию», два фрагмента которого сохранились у блаж. Иеронима Стридонского и Руфина Аквилейского, он категорически отстраняется от подобной еретической концепции, которая, по его словам, якобы ложно приписывалась ему недругами[53]. Однако, по нашему глубокому убеждению, известная поговорка, что «не бывает дыма без огня», в данном случае совершенно оправдывает себя. Достаточно привести одно место из того же трактата «О началах», где говорится: «Но, спрашивается, некоторые из этих чинов, действующих под начальством диавола и повинующихся его злобе, могут ли когда-нибудь в будущие века обратиться к добру, ввиду того, что им всем присуща способность свободного произволения, или же постоянная и застарелая злоба, вследствие привычки, должна обратиться у них как бы в некоторую природу? Ты, читатель, должен исследовать, действительно ли и эта часть (существ) совершенно не будет во внутреннем разногласии с тем конечным единством и гармонией ни в этих видимых и временных веках, ни в тех, невидимых и вечных? Во всяком случае, как в продолжение этих видимых и временных, так и в продолжение тех невидимых и вечных веков все наличные существа распределяются сообразно с чином, мерою, родом и достоинствами их заслуг, причем некоторые из них достигнут невидимого и вечного (бытия) на первых же порах, другие — только потом, а некоторые — даже в последние времена, и то только путем величайших и тягчайших наказаний и продолжительных, так сказать, многовековых, самых суровых исправлений, после научения сначала ангельскими силами, потом силами высших степеней, словом, путем постепенного восхождения к небу — путем прохождения, в некоторой форме наставлений, всех отдельных служений, присущих небесным силам. Отсюда, я думаю, вполне последовательно можно сделать такой вывод, что каждое разумное существо, переходя из одного чина в другой, постепенно может перейти (из своего чина) во все остальные и из всех — в каждый отдельный чин, потому что всех этих разнообразных состояний преуспеяния и упадка каждое существо достигло собственными движениями и усилиями, которые обусловливаются способностью каждого (существа) к свободному произволению»[54].
Форма вопроса этого длинного рассуждения Оригена не должна смущать, поскольку весь ход мыслей в нем, как и приведенные выше цитаты, убеждают нас, что перед нами типичный риторический вопрос. Александрийский «дидаскал», исходя из своего основополагающего тезиса, что свободная воля субстанциально присуща всякому разумному существу, предполагает следующий вывод: эта свободная воля (как и разумность) останется неотъемлемым свойством диавола и бесов навсегда, а потому они не могут не обратиться к Богу, поскольку Его Благость несравнима со злом и пороком всякой твари. Бог неотвратимо станет «всем во всем» и покаяние («метанойа») всех злых и падших духов столь же неотвратимо последует в конце времен. Не важно, осознавал или нет сам Ориген, что такая неотвратимость покаяния злых существ вступает в противоречие с постулируемым им тезисом о свободе воли. Важно другое: еретическая теория «апокатастасиса», хотя и в несколько завуалированной форме развиваемая Оригеном, абсолютно и принципиально несовместима с Православием. Само собою разумеется, что в каждом христианине может появляться (и часто действительно появляется) «великая надежда» на то, что все, даже диавол, спасутся. Но при этом христианин должен ясно осознавать, что таковая «надежда» не только в корне несовместима как с Священным Писанием (в том числе, со словами Самого Господа), так и с церковным Преданием. Кроме того, следует отчетливо понимать, что эта «великая надежда» ведет к кардинальному разрыву «делания» и «созерцания», без единства которых, как уже говорилось, религия Христова не может существовать, поскольку превратится в пустое умствование. Ибо если все спасутся, то отсутствует всякий смысл в христианской жизни, в соблюдении заповедей, в стяжании добродетелей и в аскетических подвигах. Поэтому даже предположение о «восстановлении всех» является потрясением фундаментальных основ христианства, а вследствие этого — одной из «архиересей» в нем. И когда Оригена пытаются оправдать тем соображением, что для него « апокатастасис не был и не мог быть богословской доктриной. Его место — в христианской надежде, а она не постыжает (Рим.5:3) и, по словам древних отцов, как огонь разжигает все силы души, указывая путь к милосердию Божию»[55], то здесь имеется либо фатальное непонимание сути религии Христовой, либо элементарная прелесть заблуждающегося ума. Прежде всего, «христианскую надежду» ни в коем случае нельзя отделять от «богословской доктрины», поскольку они соединены «нераздельно и неразлучно». Кроме того, следует принимать во внимание очень существенный факт, что Ориген был церковным «дидаскалом», а не «свободным философом», а это требовало от него, как и всякое церковное служение, соблюдение четких рамок в делах и поступках. И если даже всякий порядочный и разумный человек ясно осознает, что он не имеет права высказывать любое свое мнение, тем более следует осознавать это тому, кому вверено церковное служение. И далеко не всякое «частное богословское мнение» имеет право быть высказанным, поскольку богословское целомудрие является непременным условием всякого церковного мышления, как и просто целомудрие есть непременное условие нравственной жизни христианина.
Что же касается второго спорного аспекта эсхатологии Оригена — вопроса о тождестве наших воскресших тел телам настоящим, то здесь много неясностей, поскольку в сочинениях Александрийского «дидаскала» имеется значительное количество противоречивых суждений на сей счет[56]. Но в целом складывается впечатление, что, «отрицая возможность воскресения тел в их полном настоящем виде и составе, на основании удержанного философией Платона Гераклитовского учения о непрерывной и безвозвратной текучести и изменяемости вещей, он с тем вместе утверждает возможность воскресения новых тончайших тел, на основании стоического учения о присущих всем вещам не гибнущих силах (σπερματικοὶ λόγοι) жизни и развития»[57]. Кроме того, «если древние отцы и учители, утверждая тождественность имеющих воскреснуть тел с телами настоящими, основываясь на примере воскресшего Господа, то пример этот решительно никакой не мог иметь силы для Оригена, при том своеобразном его взгляде на телесную природу Господа»[58]. Последний пункт очень важен, ибо он встает в противоречие с одной из основных интуиций святоотеческой эсхатологии[59]. Правда, следует отметить, что современные апологеты Оригена стараются полностью исключить все нецерковные элементы в данном аспекте его эсхатологии, стараясь изобразить Александрийского «дидаскала» верным последователем св. Апостола Павла (особенно, в 1 Кор.15)[60]. Но весьма настораживает тот факт, что уже в начале IV века такие святые отцы Церкви, как св. Мефодий и св. Петр Александрийский, очень резко критиковали в данном плане Оригена. Особенно примечательна критика его св. Мефодием, который в ряд других моментов христианского вероучения (особенно — в аскетике) ценил правильные мысли Александрийского «дидаскала» и находился под его определенным влиянием[61]. Но в то же время он написал специальный трактат «О воскресении», где «основное содержание высказываний защитников оригенизма сводится к тезису, что все данные Писания о телесном воскресении должны быть поняты в переносном смысле. Речь идет, по их убеждению, не о восстановлении всех материальных элементов прежнего тела, ибо это невозможно, а о его форме (εἶδος — вид). Этот “вид”, эта форма восстановления в будущем воскресении образует собою “духовное” тело воскресения, в котором уже не будет места для материальных элементов, слагающих наши земные тела. Бестелесная душа облечется в воскресении в свой восстановленный “вид”»[62]. При этом св. Мефодий отчетливо осознавал, «что подчеркнуто спиритуалистические представления Оригена о будущем воскресении могут быть правильно оценены только в том случае, если будут учтены упрощенные грубо материалистические представления, распространявшиеся среди известной части христиан (и еще больше среди людей, интересовавшихся христианством), ожидавших и по воскресении продолжения всех материальных отношений и функций современного земного бытия. Можно сказать, что, борясь с этими наивно натуралистическими представлениями, Ориген впал в противоположную крайность, приближающую его систему к гностическим построениям. В связи с этим вера в воскресение теряет в оригенизме то центральное место, которое оно занимает в традиционно-церковном учении. Для Оригена воскресение — это не завершающий акт Божия дела в мире, а лишь одна из составных частей общего космического процесса очищения; завершение этого процесса последует в дальнейшем, когда мы освободимся даже от ”духовных тел”, полученных в воскресении, и когда наши души вновь приобретут свой чисто духовный характер»[63]. Следовательно, учение Оригена о воскресении органично вписывается в его концепцию «апокатастасиса», а св. Мефодий, поняв всю гибельность и еретичность главных интуиций эсхатологии Александрийского «дидаскала», встал на защиту церковного Предания. Иногда этого священномученика упрекают в его якобы непонимании и карикатурном изображении взглядов Оригена[64], но, во-первых, св. Мефодий читал те сочинения Оригена, которые не дошли до нас, а, во-вторых, трезвенности его видения и «церковному чутью» следует доверять больше, чем наивному и самоуверенному рационализму современных западных исследователей, не имеющих, как правило, и самого смутного представления о церковном Предании.
Таким образом, в двух принципиальных и кардинальных положениях эсхатологии Оригена (теории «апокатастасиса» и учении о телесном воскресении) наблюдается коренное расхождение ее с православным вероучением, хотя в этой эсхатологии замечается также столкновение разных, часто противоречивых и несовместимых друг с другом, тезисов. Такие разнородные элементы в эсхатологии Оригена даже привели к предположению, что у него существовали собственно две эсхатологии: одна эзотерическая, для избранных, или «духовных», христиан, а другая — экзотерическая, для «плотских христиан»[65]. Однако, каких-либо серьезных оснований для выдвижения подобной гипотезы не имеется. Только одно место из сочинения «О началах» можно привести в пользу этой гипотезы, но и оно весьма расплывчато. Здесь говорится: «Святые Апостолы, проповедуя веру Христову, о некоторых предметах, именно то, что они признали необходимым, весьма ясно сообщили для всех, даже для тех, которые казались сравнительно менее деятельными в изыскании Божественного знания; причем основание своего учения они предоставили находить тем, которые сподобились получить от Самого Святого Духа благодать слова, премудрости и разума. О других же предметах Апостолы только сказали, что они есть, но — как или почему, умолчали, — конечно, с тою целью, чтобы могли иметь упражнение и показать таким образом плод своего ума наиболее ревностные и любящие мудрость из числа их преемников, то есть из них, которые сделались достойными и способными к восприятию истины»[66]. Конечно, здесь явно ощущается налет элитаризма, который, несомненно, чужд духу истинного христианства, как и всякий эзотеризм, но до построения «эзотерической» и «экзотерической» эсхатологии данное рассуждение находится на дистанции огромного размера. Единственное, на что данное рассуждение может указывать, так это — на факт наличия некоего напряжения между простыми верующими христианами и их более образованными и искусными в светских науках и в толковании Священного Писания собратьями, то есть на тот факт, который, действительно, имел место в истории древней Церкви[67], но значение которого совсем не следует преувеличивать.
Думается, что объяснение всех неувязок и противоречий как в эсхатологии, так и вообще в так называемой «системе» Оригена следует искать в другом направлении. На наш взгляд, здесь имеется случай богословской шизофрении, которая прослеживается и у некоторых других родоначальников ересей, но у Оригена выступает вполне отчетливо. Русский исследователь его творчества сделал такое верное наблюдение, что «система» Оригена не чужда «некоторой спутанности, нерешительности и в своем начале и продолжении; и здесь она могла подавать и действительно подавала повод к недоразумениям и нередко до противоположности различным толкованиям. Но в заключении своем (то есть в эсхатологии — А.С.), в своих последних выводах она представляет такое смешение, такой разлад различных маловяжущихся друг с другом идей, что посторонний исследователь становится совершенно в тупик, не зная, какой из двух или трех мыслей, высказанных одним и тем же умом, дать преимущество перед остальными, или как соединить их все воедино, как представить себе ту взаимную связь их, которую они по всей вероятности имели в уме творца своего. И ничего странного вследствие этого не представляет собою то явление, что эта система была и есть яблоком раздора для исследователей преимущественно последней частью своей, в которой она, можно сказать, почти с одинаковым успехом и была безусловно осуждаема, как не имеющая ничего общего с учением Церкви система, и была безусловно оправдываема, как истинно церковная, чисто православная система. Но причину этого алогического явления понять весьма нетрудно. Ориген принял в основание своей системы, кроме правила церковной веры, и некоторые, по его мнению, несомненные, метафизические и философские начала, и таким образом добровольно возложил на себя нелегкое бремя служения двум, не всегда и не везде согласным между собою господам»[68]. Именно поэтому столь разноречивы и противоречивы интерпретации наследия Оригена исследователями Нового времени, когда его представляли и представляют то как христианского платоника, то как «библейского богослова», то как «гностика», тяготеющего к различным мифологемам еретического гностицизма, а то и как вполне «церковного мыслителя»[69]. Но порочность всех этих интерпретаций заключается в том, что все они исходят из понимания взглядов Оригена как некоей системы, управляемой своей внутренней и непротиворечивой логикой системы. Однако, служение двум господам не может породить единой, пусть иногда и внешне противоречивой, но внутренне цельной системы. Это служение, наоборот, с неизбежностью порождает только греховный раскол духа и сознания, то есть всю ту же богословскую (или шире — мировоззренческую) шизофрению. Однако, несмотря на все сказанное, необходимо констатировать, что никто не может отрицать заслуг Оригена, например, в аскетическом богословии, поскольку он в ряде существенных моментов проложил путь последующей святоотеческой аскетике[70]; также он внес большой вклад в разработку библейской текстологии, а, кроме того, его произведения интересны освещением ряда важных аспектов «мистического ведения», хотя он в этом плане больше тяготеет к традиции античной философии (особенно, к платоновской ветви его), чем к преданию христианского тайнозрительства[71]. Но все эти заслуги меркнут по сравнению с тем вредом, который он нанес Церкви своими лжехристианскими «частными мнениями». Следует помнить, что богословская шизофрения — болезнь заразная и вирус ее сохраняет свои губительные свойства на протяжении многих веков, что ясно показывает зараза оригенизма, последствия которой сохраняются и поныне.
Весьма характерно, что в V веке преп. Викентий Леринский, вернейший хранитель и толкователь Священного Предания, воздает многие похвалы Оригену. «В этом человеке весьма много столь превосходного, особенного, удивительного, что всякий легко решился бы основываться на его вере во всем, чтобы он ни утверждал. Ибо если авторитет доставляется жизнью, то Ориген был весьма трудолюбив, целомудрен, снослив, терпелив… Он обладал таким сильным, глубоким, острым, превосходным умом, что почти всех далеко превосходил. Он был так богато учен и всячески образован, что немного останется в любомудрии божественном, едва ли что есть в любомудрии человеческом, чего бы не знал он в совершенстве…» Однако, воздав величайшие похвалы Оригену, преп. Викентий присовокупляет: «Сила в том, что искушение от столь знаменитого лица, учителя, пророка, не обыкновенное какое-нибудь, но, как последствия показали, чрезвычайно опасное, весьма многих отторгло от целости веры. Великий и славный Ориген с большим надмением пользовался даром Божиим без границ, потворствовал уму своему, слишком много доверял себе, ни во что ставил древнюю простоту христианской религии, воображая себя смыслящим больше всех, и, презирая предания церковные и учительства древних, толковал некоторые места Писаний на новый лад»[72]. В этих словах преп. Викентия не только набросан верный психологический портрет Оригена, но и показана опасность раскола его личности и мировоззрения для цельности и единовидности религии Христовой. Церковь потому и осудила Оригена, что «вирус богословской шизофрении», носителем и распространителем которого он стал, грозил смертоносными последствиями ее чадам.
Алексей Сидоров,
профессор, доктор церковной истории
Православие.ру