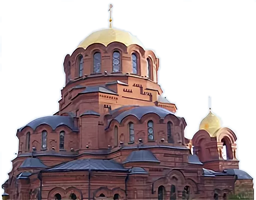[16.11.2012] «Эсхатология очищения» как синкретическая модель либерального богословия в XX веке. Часть 2. «Хирургический ад», психологическое чистилище
«Хирургический ад» и/или чистилище
Жан Элюэн предложил теорию т.н. «хирургического ада», где личность грешника не смешивается с его грехами: благодаря очистительному «хирургическому» огню вся скверна человека сгорает, а он сам сможет «в своем уже смиренном состоянии включиться во всеобщую гармонию, которая есть божественная Омега»[1]. В этой идее прослеживаются ясные параллели с эсхатологией св. Григория Нисского – с «огненным крещением». Элюэн настаивает на разнице между «хирургическим адом» и чистилищем, но ему не удается избежать синкретического слияния. Как отмечает Себоюэ, «Элюэн, безусловно, различает “хирургический ад” и “целительное” чистилище. Но это очень зыбкое различие. На самом деле оба понятия совпадают: очищение при определенных условиях и очищение возрождающее».[2]

Понимание чистилища как «хирургического ада», отсекающего грехи и возрождающего «прооперированного» грешника к вечной жизни, встречается у многих современных католических авторов. Это объясняется желанием гуманизировать средневековое представление о чистилище, придав традиционному западному догмату восточно-христианскую интерпретацию в духе учения об «огненном крещении». Например, кардинал Джакомо Биффи пишет о чистилище как о состоянии очищения в загробном мире, «когда огонь Его (Бога – И.М.) любви сможет окончательно спалить все, что нас обременяет»[3]. Священник Томас Рауш, преподаватель католического богословия, почти полностью стирает границу между чистилищем, «хирургическим адом» и апокатастасисом: «Как эсхатологическая концепция, чистилище нельзя понимать во временных и пространственных терминах. Современное богословие склонно воспринимать его в непосредственной связи со встречей с Богом в момент смерти или даже ранее – встречей, сметающей любое наше сопротивление (курсив мой; это можно понимать как насилование человеческой свободы – И.М.), сиянию божественного присутствия и очищающей нас от остатков самопоглощенности (та же самая «операция» греха, что и у Элюэна – И.М.) как препятствия к окончательному единению»[4].
 В нашей русской религиозной философии подобную идею «хирургического ада» высказал о. Павел Флоренский, назвав ее «антиномией геенны» и этим, как ему казалось, избежав «вульгарного оригенизма». Мысль его выражена тезисом и антитезисом: «Тезис – “невозможна невозможность всеобщего спасения”– и антитезис – “возможна невозможность всеобщего спасения” – явно антиномичны. Но, доколе признается Любовь Божия, – дотоле неизбежен тезис, а доколе признается свобода твари, сама составляющая необходимое следствие Любви Божией, – дотоле неизбежен антитезис»[5] – в этом основная проблема апокатастасиса и вообще любой «эсхатологии очищения». В рамках философии она неразрешима, и представляет собой чистое противоречие, но в богословии – это антиномия, верно подмеченная Флоренским.
В нашей русской религиозной философии подобную идею «хирургического ада» высказал о. Павел Флоренский, назвав ее «антиномией геенны» и этим, как ему казалось, избежав «вульгарного оригенизма». Мысль его выражена тезисом и антитезисом: «Тезис – “невозможна невозможность всеобщего спасения”– и антитезис – “возможна невозможность всеобщего спасения” – явно антиномичны. Но, доколе признается Любовь Божия, – дотоле неизбежен тезис, а доколе признается свобода твари, сама составляющая необходимое следствие Любви Божией, – дотоле неизбежен антитезис»[5] – в этом основная проблема апокатастасиса и вообще любой «эсхатологии очищения». В рамках философии она неразрешима, и представляет собой чистое противоречие, но в богословии – это антиномия, верно подмеченная Флоренским.
Отец Павел пытается разрешить ее с помощью «хирургического ада»: суд Божий и адские муки «отсекают», «вырывают» греховную часть души из эмпирической личности; пройдя эту огненную операцию, человек спасается по слову апостола «как бы из огня» (1Кор. 3:15), а грехи его сгорают[6]. Комментируя это место из апостольского послания, на которое чаще всего ссылаются католики в подтверждение чистилища, о. Павел Флоренский не оспаривает самого догмата о чистилище, а лишь спорит о «технике» очищения.[7]
«Антиномия геенны» о. Павла и «хирургический ад» Элюэна – конечно же, не чистилище в схоластическом смысле, но их теории испытали сильное влияние идеи «огненного крещения» св. Григория Нисского, и в этом смысле поданы ими как чистилище. Ни Флоренский, ни Элюэн не смогли разрешить «антиномию геенны», потому что решали ее философским путем, исходя из метафизики апокатастасиса и антропологии Григория Нисского. Апокатастасис по св. Григорию есть апокатастасис природы без учета личностного выбора человека. «Он соединяет пафос свободы и мотив необходимости, – в понятии необходимого обращения (курсив мой – И.М.) свободной воли. Для него это – основной вопрос эсхатологического богословия. При этом воля подчинена закону благого естества. Содержание эсхатологического процесса определяется изживанием последствий порождения зла, – в этом смысл очистительного огня», – пишет о. Георгий Флоровский[8]. «Хирургический ад» страдает той же богословской ошибкой: отсечение греха не означает отвращение воли индивида от греха. «Бывает инертная и упрямая воля, и такое упрямство не может вылечить даже “всеобщее исцеление”», – пишет о. Георгий Флоровский[9].
Флоренский и Элюэн отвергли дисциплинарное понимание наказания, но их «исцеляющий» ад также не затрагивает главный антропологический стержень – волю. Поэтому их гипотезы так напоминают чистилище.
 Если вспомнить прп. Максима Исповедника, на которого часто ссылаются защитники апокатастасиса в частности и сторонники «эсхатологии очищения» в целом, то можно выделить сущностное антропологическое отличие того «восстановления» и очищения, о котором говорит Исповедник, от вышеизложенных богословско-философских теорий. Оно по-прежнему коренится в волевом устремлении. Прп. Максим различает два «восстановления»: 1) восстановление в бытии природы всей вселенной и каждой твари – это произойдет через всеобщее воскресение; 2) восстановление человека в соответствии с существующим о нем Божественным замыслом (логосом бытия)[10].
Если вспомнить прп. Максима Исповедника, на которого часто ссылаются защитники апокатастасиса в частности и сторонники «эсхатологии очищения» в целом, то можно выделить сущностное антропологическое отличие того «восстановления» и очищения, о котором говорит Исповедник, от вышеизложенных богословско-философских теорий. Оно по-прежнему коренится в волевом устремлении. Прп. Максим различает два «восстановления»: 1) восстановление в бытии природы всей вселенной и каждой твари – это произойдет через всеобщее воскресение; 2) восстановление человека в соответствии с существующим о нем Божественным замыслом (логосом бытия)[10].
Об этом логосе прп. Максим пишет в «Амбигвах к Иоанну»: «Каждое из умных и мыслящих существ – ангелов и людей – посредством замысла (λόγος), по которому оно было создано, сущего в Боге и к Богу направленного, есть и называется “частью Бога”. Очевидно, что если оно будет двигаться согласно с этим замыслом, то окажется в Боге… не имея уже возможности после быть движимым к какому-либо иному месту за пределами своего собственного начала, и восхождения, и восстановления (αποκατάστασιν) в замысле, по которому оно создано, не будучи движимым каким-либо еще образом, поскольку движение его к божественной цели явно достигло своего предела в самой этой божественной цели».[11]
«Первый апокатастасис» будет, действительно, всеобщим, ибо воскреснут все, но второе восстановление нельзя назвать апокатастасисом, ибо восстановление природы не есть еще святость произволения (тот самый логос бытия), восстановление которой зависит от ипостасной свободы.
Психологическое чистилище
Христианские гуманисты, здравое церковное сознание которых испытывает сильную зависимость от философских взглядов современности и индивидуального религиозного чувства, довольно неясно и расплывчато, но все же оформили ту эсхатологическую тенденцию, которая в данной работе получила название «психологического чистилища». Не решаясь с категоричностью Бердяева защищать апокатастасис или вместе с Элюэном дополнять загробную географию «хирургическим адом», сторонники «эсхатологии очищения» на эмоционально-психологическом уровне выражают надежду на спасение всех.

Обычно в подтверждение обоснованности этой надежды на спасение всех православные гуманисты ссылаются на известного подвижника XX века – прп. Силуана Афонского[12]. Прп. Силуан, по свидетельству его биографа, действительно, надеялся на спасение всех, даже диавола, но это исходило от его подвижнического духа, сердечного горения и, главным образом, от его монашеского делания – он молился за всех[13]. Здесь не было философии: Силуан Афонский вряд ли даже слышал об оригенизме и апокатастасисе; здесь отсутствовала сентиментальная эмоциональность – старец был монахом глубокой духовной жизни; здесь и в самом деле была молитвенная надежда.
Но надежда теоретиков «эсхатологии очищения», хотя она и окрашена в большей мере религиозной психологией, есть не просто надежда, а концепция. Эта концепция имеет свои философско-богословские основания: 1) крайне субъективное отношение к аду, которое основано на личных переживаниях и эмоциях (психологическая составляющая); 2) односторонняя динамика личности после смерти, направленная на соединение с Богом (элемент апокатастасиса).
Сторонники «психологического чистилища» не отрицают вечных мук как церковной теоретической доктрины, но в реальности ад не признают, определяя его как «экзистенциальную неопределенность»[14]. «Ад не должен быть проблемой для других: это только моя проблема», – пишет о. Бернар Себоюэ[15], который ставит экзистенциальную потребность надежды на спасение всех выше вероучительного голоса Церкви. Себоюэ индивидуализирует ад, сводя его к состоянию нашего мышления: «Ад – это такой же разлом в нашем мышлении, как и в нашем существовании… Мы не только можем, мы должны надеяться за всех. И так будет гораздо лучше»[16]. Тем самым надежда эта проистекает не из христианской любви, которая созвучна Откровению, а из философии экзистенциализма, для которой является тяжким крестом сама «антиномия геенны», и из сентиментального гуманистического чувства.
Милосердие как эмоциональное чувство не всегда бывает спасительным. Касаясь проблемы границ милосердия или милосердия без Христа, философ Иван Ильин в своей работе «О сопротивлении злу силой» приводит такую притчу: «Есть мудрая христианская легенда об отшельнике, который долгое время побеждал диавола во всех его видах и во всех, исходивших от него искушениях, пока, наконец, враг не постучался к нему в его уединилище в образе раненого, страдающего ворона, и тогда слепое, сентиментальное сострадание победило в душе отшельника: ворон был впущен, и монах оказался во власти диавола... Именно этой сентиментальной любви, проистекающей из слабости и имеющей значение соблазна, духовная зрячесть и духовная воля полагают предел»[17].
 П.Тейяр де Шарден, излагая свое понимание ада как части «Божественной среды», Плеромы, вольно или невольно доводит свою эсхатологию до дуализма. Ад для Шардена реален, но является «отрицательным полюсом мира», созданного Творцом, некой движущей силой духовной эволюции, проповедуемой Тейяром, – своего рода «естественным отбором», «структурным элементом Вселенной».[18] Свои философские рассуждения Тейяр де Шарден заканчивает молитвой «за всех»: «Пусть адское пламя не достигнет меня, Господи, никого из тех, кого я люблю… Пусть оно не достигнет никого, Боже!»[19]. Молитва в духе общей концепции «эсхатологии очищения».
П.Тейяр де Шарден, излагая свое понимание ада как части «Божественной среды», Плеромы, вольно или невольно доводит свою эсхатологию до дуализма. Ад для Шардена реален, но является «отрицательным полюсом мира», созданного Творцом, некой движущей силой духовной эволюции, проповедуемой Тейяром, – своего рода «естественным отбором», «структурным элементом Вселенной».[18] Свои философские рассуждения Тейяр де Шарден заканчивает молитвой «за всех»: «Пусть адское пламя не достигнет меня, Господи, никого из тех, кого я люблю… Пусть оно не достигнет никого, Боже!»[19]. Молитва в духе общей концепции «эсхатологии очищения».
Апокатастасис как надежду исповедовал и другой французский богослов XX века – Ж. Даниелу: «Она затрагивает все человечество. То, чего мы ожидаем – это спасение мира. В действительности наше упование есть спасение всех людей – и только в той степени, в которой я озабочен их судьбами, оно касается и меня»[20]. Епископ Каллист (Уэр) склонен считать даже оригеновский апокатастасис не философским умозаключением, а надеждой о спасении всех.[21]
Однако надежда на апокатастасис, как у владыки Каллиста, и уверенность во «всеобщем чистилище», как у о. Сергия Булгакова, на наш взгляд, мало чем отличаются. И то, и другое основывается на той мысли, что после смерти существует некая динамика личности, причем односторонняя – только к Богу, т.е. существует покаяние за гробом, которое может изменить участь умершего. Представление о пассивности загробного существования отвергал о. Сергий Булгаков, говоря о том, что после смерти «каждый человек должен по-своему духовно дозреть и окончательно определиться как в добре, так и во зле», само это состояние есть «духовная школа, новый опыт жизни, который не остается бесследным»[22]. На этом основании, как было сказано выше, о. Сергий строит свою теорию «всеобщего чистилища»
Митрополит Иларион (Алфеев), ограждая православную традицию от мысли о «среднем» состоянии очищения, тем не менее, считает посмертную динамику оптимистической стороной восточной эсхатологии[23]. Чистилище с его освобождением от временных наказаний чуждо православию, по мнению владыки, именно потому, что в восточной традиции (особенно в сирийской) существует надежда на избавление от мук вечных[24]. Указывая на раскаяние евангельского богача (Лк.16:20-31), который осознал бедственность своего положения в аду, владыка Иларион пишет: «С одной стороны, в аду невозможно деятельное покаяние, невозможно исправить совершенные злые дела соответствующими добрыми делами. Однако покаяние в смысле “перемены ума”, переоценки ценностей, очевидно, возможно»[25]. Но православная традиция знает другое деление: покаяние как «перемена ума», связанное воедино с обращением воли и принесением плодов покаяния, и раскаяние – бесплодные муки совести, которые и испытывал богач из притчи. Последнее нельзя назвать покаянием, ибо в противном случае пришлось бы констатировать и покаяние Иуды Искариота. Раскаяние не спасает: переоценка ценностей, сделанная богачом, не перенесла его из ада на лоно Авраама, между которыми «великая пропасть» (Лк.16: 26).
«Православное исповедание» отвергает веру в очистительный огонь на том основании, что покаяние есть Таинство Церкви, а после смерти душа не может быть деятельной участницей Таинств, следовательно, покаяние для нее невозможно.[26] Этим и обусловлены в Православии Литургия, молитвы и милостыни, совершаемые за усопшего: они помогают личностной воле в устремлении к Богу, но не производят «перемены ума» в самом умершем: «Многие из грешников освобождаются от уз ада не покаянием или исповедью… но за благотворения людей, находящихся в живых, за молитвы, воссылаемые о них Церковью, и особливо за бескровную Жертву, которую Церковь ежедневно приносит вообще за всех живых и мертвых, так как Христос умер за всех»[27]. В этом смысл 3-й молитвы на вечерне Пятидесятницы о «еже во аде держимых». Если человек имел жажду Бога при жизни, воля его была направлена к Богу, то прощение его грехов возможно и после смерти. Если динамика личности и возможна в эсхатологической перспективе, то не в смысле обращения и покаяния, а как движение по заданному при жизни духовному вектору. С этой мыслью согласен и владыка Иларион: «Посмертное существование не есть переход из динамичного бытия в статичное, но продолжение – на новом уровне – того пути, по которому человек шел при жизни (курсив мой – И.М.)»[28].
Оптимистическая «эсхатология очищения» и святоотеческое учение о вечных муках одинаково утверждают: бытие человека после смерти не статично. Разница в том, что душа после смерти может двигаться не только «вверх», но и «вниз», согласно православной эсхатологии. Это зависит не от загробного покаяния-раскаяния, а от воли, направление которой человек полагает при жизни. После смерти динамики воли, как пишут Святые Отцы, не существует ни у ангелов, ни у человека. Прп. Иоанн Дамаскин пишет: «Нужно знать, что падение для ангелов есть то же самое, что для людей – смерть. Ибо после падения для них невозможно покаяние, как и для людей после смерти»[29].
 Как говорит блаж. Феофилакт Болгарский, вопреки мнению сторонников «психологического чистилища», надежда на обращение грешника существует, пока он жив, «по смерти же будет рассмотрение дел его, и если он здесь (курсив мой – И.М.) не раскаялся, то там окружает его кромешная тьма, ибо надежды на обращение тогда уже нет, и наступает совершенное лишение божественных благ»[30]. Святитель Марк Эфесский ясно указывает в полемике с латинянами, что движение воли ограничено настоящей жизнью (в чем, кстати, католики XV века были согласны, в отличие от своих нынешних единоверцев)[31]. Таким образом, идея динамики личности после смерти не может служить надеждой на посмертное покаяние и всеобщее спасение, согласно святоотеческой православной традиции. Психологическое чистилище стоит на тех же синкретических позициях, что и всеобщее чистилище и «хирургический ад».
Как говорит блаж. Феофилакт Болгарский, вопреки мнению сторонников «психологического чистилища», надежда на обращение грешника существует, пока он жив, «по смерти же будет рассмотрение дел его, и если он здесь (курсив мой – И.М.) не раскаялся, то там окружает его кромешная тьма, ибо надежды на обращение тогда уже нет, и наступает совершенное лишение божественных благ»[30]. Святитель Марк Эфесский ясно указывает в полемике с латинянами, что движение воли ограничено настоящей жизнью (в чем, кстати, католики XV века были согласны, в отличие от своих нынешних единоверцев)[31]. Таким образом, идея динамики личности после смерти не может служить надеждой на посмертное покаяние и всеобщее спасение, согласно святоотеческой православной традиции. Психологическое чистилище стоит на тех же синкретических позициях, что и всеобщее чистилище и «хирургический ад».
Ересь апокатастасиса, представление о «среднем» состоянии, «хирургическом аде», всеобщем или психологическом чистилище – все эти идеи пытаются предстать в виде общей для христианства «эсхатологии очищения», лишенной средневековых представлений в виде теории заслуг (thesaurus meritorum Sanctorum) и наполненной подлинным духом восточного христианства. По сути же – духом осужденных на Востоке (и Западе) древних ересей и индивидуальных, духовно не вполне здравых, религиозных переживаний, окрашенных философией экзистенциализма. Очень трудно не увидеть в таком синтезе совершенно различных религиозных идей синкретическую модель загробного учения – учения не церковного, а философско-религиозного.
Подлинно же православное учение о частной эсхатологии, согласующееся с многовековым преданием Церкви и заключающее в себе consensus Patrum, выразил свт. Марк Эфесский: до последнего Суда нет «средних» душ, как нет и окончательного приговора осужденным. Есть души, предвкушающие блаженство и души, предвкушающие муку. Последним могут помочь церковные молитвы, милостыни и литургии, но сами эти души не находятся в положении хоть и очищающихся, но гарантированно спасенных. Последнее решение о них будет вынесено на Страшном Суде[32] и лишь после Страшного Суда святые вкусят полное блаженство, а грешники – полноту мучений.
«Эсхатология очищения», вобравшая в себя разные богословские идеи Востока и Запада с философской рациональностью, настаивает на том, что после смерти у человека есть шанс на спасение вне зависимости от его прожитой жизни, и этот шанс в конечном итоге беспроигрышный. Как заметил Льюис, «если бы миллион шансов тут мог помочь, нам бы их дали. Только учитель знает, когда уже бесполезно разрешать переэкзаменовку»[33]. Эту же серьезность и ответственность в земной жизни перед лицом вечности подчеркивает и православная эсхатология.
Диакон Илья Маслов
Православие.ру
Примечания
Библиография
Литература