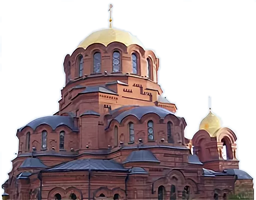[16.06.2010] Не унижаться до бессмысленности и пустоты
По роду деятельности мне приходится заниматься искусством первой половины 19 века, читать лекции по 19 веку, то есть – времени классического существования русского искусства, русской живописи, графики, скульптуры. Но, даже погружаясь в этот период русской культуры, понимаешь, как быстро шел процесс обновления художественного языка, каким активным был поиск новых средств выразительности. Не случайно всего через полвека после основания Академии художеств в России и появления первых результатов «европейской учености» возникло первое бунтарское явление, когда в 1860-е годы несколько выпускников Академии художеств в знак протеста против программы на золотую медаль, которая их не устроила, вышли из состава Академии. Тем самым, они отвергли возможность иметь эту высокую награду, дававшую право на заграничную стажировку, ради свободы выбора. Пожалуй, впервые проблемы творчества решались в форме демонстрации, акции протеста.
То есть – эти потенции к обновлению, к поиску нового, к каким- то революционным поступкам были в русском искусстве всегда.
20 век в этом отношении, конечно, не идет ни в какое сравнение – настолько активно развивались самые разные формы искусства, настолько активно художники осваивали новые средства изобразительности, экспериментировали с художественным языком, декларировали свободу. А формы протеста за искусство зачастую оборачивались протестом против искусства. Это приводило к тому, что саму изобразительность предавали забвению, приходили к беспредметности, уходя от самого главного для художника – объекта его внимания, потому что объектом внимания становилась сама, так сказать, внутренняя мыслительная деятельность творца (или его психическое, эмоциональное состояние). И получилось так, что в искусстве 20 века собственно мир, окружающий человека, и сам человек оказывались не нужны. В концептуальном искусстве достаточно обозначить некий предмет (или умозрительную идею) некими художественными средствами (будь то пятно, линия, точки и т.д. и т.п.) и приложить к этому визуальному объекту некий текст (письменный, озвученный и проч.), который и берет на себя главную содержательную нагрузку, служит образным воплощением авторской мысли. Эта «закодированность», существующая вне художественной образности, отрицающая, по сути, саму художественную форму, как способ воплощения в зримых формах неосязательных идей, становится самоцелью, «игрой в бисер» для «избранных». А любое непонимание или неприятие «сверх актуального» «искусства» (особенно скандального свойства) преподносится его апологетами как неразвитость, косность и дремучесть того, кто не приемлет эти плоды самовыражения.
Конечно, зрителю невероятно трудно и сложно разобраться во всем, что происходит в сфере современного творчества и дать оценку собственным ощущениям, поскольку человеческая природа по сути своей ждет от искусства тех визуальных наблюдений, которые соотносятся с природными человеческими параметрами. И конечно трудно бывает воспринимать искажение реальности, допускаемое художниками в своих работах, и, тем более – отсутствие каких-либо предметных форм, которые соотносились бы с реальными жизненными впечатлениями человека. Те или иные способы пересоздания реальности в произведении искусства лежали в основе многих направлений, которые теперь воспринимаются вполне «классическими» - импрессионизма, кубизма и проч. Но важно, конечно, различать плоды творческого поиска ради новой образности, ради метафорического смысла, и – ядовитые плоды разрушения образа, без- образности, а то и сознательного культивирования безобразия.
Большую проблему для восприятия искусства 20 столетия вызвало еще и то, что художники, а главное – искусствоведы и критики, то есть люди, «обслуживающие» искусство в научном, критическом плане, как бы не договорились до конца о терминах и понятиях. И поле художественного творчества, поле искусства превратилось в некое пространство без берегов, пространство без каких либо границ и вех. То есть то, что мы традиционно называем «искусством», что основано на изобразительности, на художественном воплощении идей и представлений художника, но при этом не отвергает законов восприятия (и законов человечности!) плавно слилось в этом едином пространстве (в том числе и музейно-выставочнм) с некими «акциями», претенциозными и шокирующими формами самовыражения, не имеющим к искусству никакого отношения. Поэтому современному зрителю трудно понять – почему мы называем искусством то, что представлено в традиционных залах музеев и на выставках современного творчества, но что, скорее всего, можно было бы назвать «игрой» «манипуляцией» с предметами и формами. Да, можно согласиться, что перфомансы и прочие «действа» – это тоже творческий акт, но эти креативные усилия далеко не всегда создают художественную форму, художественный образ (как, скажем, фольклорные выступления). Такое «творчество» не находится ни в какой родственной связи ни с какими авангардными течениями рубежа XIX – XX вв., и даже с еще более радикальными поисками, рожденными ситуацией после первой мировой войны, потому что в нем нет ни на йоту стремления к художественному познанию мира, к художественному осмыслению человеческого духа – его высот и его трагедий. Конечно, и в формах беспредметности можно выразить серьезные темы, выразить духовное состояние человека, не теряя при этом и эстетических свойств искусства: В.В.Кандинский, В.Н.Чекрыгин, Эдуард Штейнберг (скажем, его крестьянский цикл) – лишь немногие тому примеры. Но, кстати, искусство такого рода не
требует всеобщего зрительского приятия, но и не оскорбляет того зрителя, который не может его понять и принять.
Хотелось бы заметить вот еще что – активность современных технологических процессов, механизация всех сторон жизни невольно способствует выхолащиванию в человеке (и - прежде всего – в художнике) самих основ человеческого восприятия мира. Те тактильные, чувственно-эмоциональные и душевные отношения к объекту, которые всегда составляли почву любого творческого процесса, перестают быть ценностью, вообще становятся не нужны. И, к сожалению, вслед за этим происходит процесс утраты интереса к подлинному, живому, неповторимо индивидуальному, национально окрашенному, несущему на себе отпечаток не только мысли, но и чувства. Человек превращается в некое существо вообще, и ему становится не важно – видит ли он перед глазами картинку, распечатанную на цветном принтере (экране дисплея), или – художественное произведение, созданное руками художника. Вот это рукотворное начало и ценность этой рукотворности, к сожалению выхолащивается. Конечно, не всё так безнадежно. Очевидно, вследствие усталости от концептуального и беспредметного искусства, идет процесс возврата к изобразительности, к тому самому объекту художественного внимания, который в ряде направлений современного искусства был попросту забыт, отринут. А этим объектом в искусстве, в творчестве, на мой взгляд, может оставаться только Богосотворенный мир и человек в этом мире – со всеми сложностями, со всеми проблемами его личного бытия, его общественного и социального существования. И, конечно, хочется надеяться, что художники будут искать новые формы, адекватные и этому миру и задаче художественного отображения этого мира, художественного понимания этого мира – такого, каков он есть, и того, что с ним происходит и того, что с ним, возможно, будет. Ведь настоящие художники, настоящее искусство всегда обладали даром провидения, предвидения будущего. Да, искусство не может лишь радовать глаз. Да, оно должно и удивлять, и потрясать, и будоражить совесть, душу. И находить для этого современный язык, современные формы. Но – не унижать и не унижаться до бессмысленности и пустоты.
Светлана Степанова,
научный сотрудник Третьяковской галереи,
доктор искусствоведения.